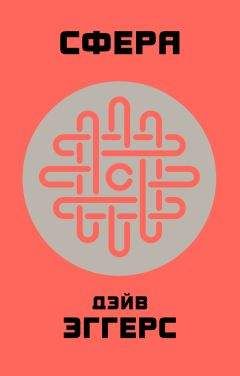Ознакомительная версия.
По мере чтения запрещенной литературы – куда вошел даже роман Булгакова «Собачье сердце» – я все чаще задавал себе один и тот же вопрос, почему эти книги вдруг стали доступны в Перми, и нет ли тут тайного умысла…. ввод войск в ЧССР дал ответ: берегись! О вас все известно там, где надо. Короче, осенью я вступил в конфликт с нашими московскими поставщиками, обвиняя их в невольном – так ли? – участии в Большой Провокации. Тут я как в воду глядел. В воронку чтения органы втянули около 50 человек, и все они прошли свидетелями в закрытом процессе 1971 года» (А. К. Интервью 6. Личный архив автора).
«Думаю, что родители не слушали и были в таком же неведении, как и я. Сам- и тамиздат начала читать уже в университете, отпечатанные страницы. Что-то романтическое. Булгакова, Цветаеву. О Новочеркасском расстреле знала, рассказывала бабушка» (Л. И. Интервью 7. Личный архив автора).
«Сам- и тамиздат начала читать в с мая 1980 года, когда стала участвовать в фонде помощи политзаключенным Солженицына. Прочитала всё. Брат и сестра отнеслись к этому так, что я перестала с ними общаться» (О. К. Интервью 8. Личный архив автора).
«Мои родители боялись всего. О прослушивании „вражеских голосов“ в нашем доме не могло быть и речи. Сам- и тамиздат стал читать очень поздно (писать я его начал раньше…). В совершенно взрослом возрасте, уже дочка родилась. В 1987—1988 годы. „Большой террор“ Конквиста. Я его прочитал за одни сутки, это был просто шок, до физической дурноты. То есть я знал, что Сталин с Берией расстреляли лучших большевиков „ленинской гвардии“, но реальный масштаб террора и его жестокость я даже представить себе не мог. С этого момента и начала разматываться в моей голове вполне стандартная ленточка: от „ленинского социализма“ к „демократическому социализму“ и от него к нормальным демократическим убеждениям, в рамках которых „социализм“ сначала не нужен, а затем и смертельно вреден» (М. С. Интервью 9. Личный архив автора).
«Слушали, особенно отец и бабушка. Мама не слушала. Отчим отца у себя дома слушал радио Израиля. Году в 1975 мне купили транзисторный приемник с короткими волнами, я начал слушать запретную рок-музыку, потом и аналитику «Голоса Америки», «Немецкой волны», «Свободы». Мне говорили, чтобы в школе не болтал лишнего. Но такой опасности, как сегодня у моей 80-летней мамы в отношении меня и нынешнего режима не было. Брежневский режим не вызывал у родителей страха, скорее презрение, насмешку. Я чаще слушал по зарубежным голосам и «Остров Крым» и «Чонкина», чем читал. «Доктора Живаго» мне дали ротапринтного на один день в институте. Солженицына папа выдрал из Нового мира страницы с «Иваном Денисовичем» и «Матрениным двором» и переплел на работе, хранил в книжном шкафу в самом низу, закладывал журналами. «ГУЛАГ» прочитал набранный на машинке, только небольшую часть (первый том), полностью прочитал уже в перестройку. Больше слушали. Слушали записи на магнитофонных лентах Галича, Высоцкого, Окуджаву, Ножкина, Аркадия Северного, Беляева.
О Новочеркасске мне рассказывал отец, про ливерные пирожки, про расстрел, про суд, показывал двор суда (угол Серафимовича и Буденновского), куда привозили людей (не уверен, что именно туда).
Что касается опасностей, то, возможно, мне везло. У меня в комнате в общаге КГБ искало записи Галича, нашли десяток бобин с Высоцким, изъяли. А потом вернули через коменданта и сказали спасибо за то, что переписали. А бобина с Галичем хранилась у моей девушки, работавшей секретарем у директора водоканала. Она ее хранила в его кабинете за томами Ленина» (Л. С. Интервью 10. Личный архив автора).
«Зарубежное радио в семье не слушали, отец – правоверный советской офицер. Сама тоже никогда не слушала – я интроверт и внутренний эмигрант, ни в телевизоре, ни в радио никогда не нуждалась, только в книгах, нотах и творчестве. Тамиздат мне не попадался, читала бы, если бы знала, что это такое. Но провинция, насколько я могу судить, вообще далека от подобных вопросов, если туда не попадают столичные люди. В библиотеке родного города я начала читать „толстые“ журналы и потом подписалась на главные. А тамиздата просто не было в моем окружении. Я прожила в Новороссийске до 22 лет, тамиздат не читала, наверное, никогда – началась перестройка и все стали издавать здесь» (А. К. Интервью 11 Личный архив автора).
А мой отец слушал (предполагаю, что ВВС) по секрету от меня и преимущественно в случаях международных кризисов, когда у нас начинали кричать о единодушной поддержке и гневном осуждении. Западный «голос» сразу опознавался по непочтительному именованию «Леонид Брежнев». Однажды, мне было уже лет 13—14, папа заметил, что я навострила уши, но ничего не сказал и словно бы не догадался. Однако больше никогда в моем присутствии формула «Леонид Брежнев» по радио не звучала.
В абсолютном большинстве родители не говорили о внутриполитической ситуации даже с повзрослевшими и понимающими детьми. Однако, судя по свидетельствам моих собеседников и опубликованным воспоминаниям, достаточно распространенной была семейная практика, когда старшие давали подросткам – чаще мальчикам – молчаливое разрешение слушать передачи на коротких волнах. Родители не были собеседниками для юных слушателей, но понимали, разумеется, что дети найдут других собеседников для обсуждения и политических проблем, и рок-музыки (= культурной агрессии), и запрещенной литературы.
Выразительную зарисовку об этом оставил литературный критик и поэт Александр Агеев: «Диссидентский пар, которого было довольно много у мальчонки, слушавшего лет с тринадцати «Голос Америки», «Немецкую волну», «Радио Швеции» и «Радио Ватикана», Би-Би-Си и прочее, что попадалось на коротких волнах (включая китайское радио на русском языке), спускался «в стол». Впрочем, другое определение мне больше нравилось – подарил мне его тогдашний глава Ивановской писательской организации, поэт-фронтовик, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Семенович Жуков. За что-то он меня любил и мне покровительствовал. Прочитав очередную пачку листочков со стихами, говорил: «Ну, ты это… Понимаешь, что нельзя напечатать? Ты это, писай пока под себя, а там видно будет…“. «Писай под себя» в устах всесоюзно признанного поэта, по должности главного писателя области, – это было занятно. Однажды зашел я к нему в контору в неурочный час: сидит за роскошным столом, доставшимся писательскому особняку от сгинувшего в революционной буре владельца, сидит над скромной чарочкой и говорит: «Вот тут два собрания сочинений сравниваю – Смелякова и Твардовского. Кто крупнее? Твардовский!». Потом поднял на меня выцветшие глаза и сказал: «Ты счастливый. Ты в 1956 году родился, когда Сталина скинули. У тебя страх если вообще есть, то не в жопе, а только в голове. А мы навсегда инвалиды. И вас, резвых, малость придерживать должны»» (Знамя, 2006, №6. https://goo.gl/1u5pUX).
Взаимоотношения семьи с самиздатом и тамиздатом были во многом такими же, как с низовой антисоветчиной анекдотов и частушек. Самая типичная практика: старшеклассники и студенты получают запретные тексты по своим каналам и читают втайне от родителей. Родители или не догадываются (во что поверить трудно, но иногда возможно), или только делают вид, или отстраняются – «ты уже взрослый» – и тем самым молчаливо поощряют. Если родители обнаруживают у детей запрещенные тексты или дети находят такую литературу в домашнем книжном шкафу, то со стороны родителей следуют попытки «придержать резвых»: от спокойного требования соблюдать осторожность до панического скандала.
Но чтобы родители сами вложили в руки подростков запрещенную книгу или выросшие дети сами поделились с родителями прочитанной «крамолой», такой практики не было. Вернее, она существовала только в тех семьях, где складывалось морально-политическое единство поколений, то есть в семьях открыто оппозиционных – диссидентских либо религиозных.
В моем случае (я уже была студенткой двадцати лет) грянул панический скандал. Хотя меня даже не уличили: когда паника началась, я успела вернуть тексты. Самых опасных – «Хроники текущих событий» и «Архипелага» среди них не было. Был «Иконостас» Флоренского, первый том «Воспоминаний» Надежды Мандельштам, «Философическое письмо» Чаадаева, «Доктор Живаго» Пастернака. Родители испугались смертельно, ждали, что меня вызовут туда. Мама со слезами шептала, что там надо признаваться, а то хуже будет. Папа начал со мной серьезное объяснение. Но он же никогда не говорил со мной ни о чем политическом. И на этот раз ничего не мог сказать, только старался вызвать у меня чувство вины за то, что я подвела семью, и повторял, что они (приятели постарше меня, лет тридцати) – плохие люди: «тунеядцы, судимые, по многу раз женатые». Ничего из этого не соответствовало действительности. Уже в новом веке из книги Владимира Козлова «Массовые беспорядки СССР при Хрущеве и Брежневе» я с удивлением узнала, что агитпроп приписывал ровно те же «личные пороки» активистам Новочеркасской забастовки: «судимые», «морально разложившиеся», «по семь раз женатые» (с. 417, 418).
Ознакомительная версия.